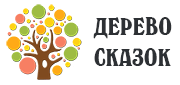В 184* году я жил в одной из северных губерний России. Жил, то есть состоял на службе, как это само собой разумелось в то время. И при этом всякие дела делал: возлежал на лоне у начальника края, танцевал котильон с губернаторшей, разговаривал с жандармским штаб-офицером о величии России и, совместно с управляющим палатой государственных имуществ, плакал горючими слезами, когда последний удостоверял, что будущее принадлежит окружным начальникам. И, что всего важнее, ужасно сердился, когда при мне называли окружных начальников эмиссарами Пугачева. Одним словом, проводил время не весьма полезно.
В то время, вблизи губернского города, процветал (а быть может, и теперь процветает) уездный городок Любезнов, куда я частенько-таки езжал, во-первых, потому что праздного времени было пропасть, а во-вторых, потому, что там служил, в качестве городничего, мой приятель, штабс-капитан Вальяжный, а у него жила экономка Аннушка. Эта Аннушка была премилая особа, и, признаюсь, когда мне случалось пить у Вальяжного чай или кофе, то очень приятно было думать, что предлагаемый напиток разливала девица благоутробная, а не какая-нибудь пряничная форма. Но, впрочем, только и всего. Хотя же и был на меня донос, будто б я езжу в Любезнов "для лакомства", но, ввиду моей беспорочной службы, это представляло так мало вероятия, что сам его превосходительство собственноручно на доносе написал: "Не верю; пусть ездит".
Подобно тому, как у любого отца семейства всегда бывает особенно надежное чадо, о котором родители говорят: "Этот не выдаст!" - подобно сему и у каждого губернатора бывает свой излюбленный город, который его превосходительство называет своею "гвардией" и относительно которого сердце его не знает никаких тревог. Об таких городах ни в губернаторской канцелярии, ни в губернском правлении иногда по целым месяцам слыхом не слыхать. Исправники в них - непьющие; городничие - такие, что две рюмки вставши, да три перед обедом, да три перед ужином - и сами говорят: "Баста!", городские головы - такие, что только о том и думают, как бы новую пожарную трубу приобрести или общественный банк устроить, а обыватели - трудолюбивые, к начальству ласковые и к уплате податей склонные.
К числу таких веселящих начальственные сердца муниципий принадлежал и Любезнов. Я помню, губернатор даже руки потирал, когда заводили речь об этом городе. "За Любезнов я спокоен! Любезновцы меня не выдадут!" - восклицал его превосходительство, и все губернское правление, в полном составе, вторило: "Да, за Любезнов мы спокойны! Любезновцы нас не выдадут!" Зато, бывало, как только придет из Петербурга циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал-майора Мардария Отчаянного, так тотчас же первая мысль: поскорее дать знать любезновцам! И точно: не успеет начальство и оглянуться, как исправник Миловзоров уже шлет 50 коп., а городничий Вальяжный - целых 75 коп. Тогда как из Полоумного городничий с тоской доносит, что, по усиленному его приглашению, пожертвований на означенный предмет поступила всего 1 копейка... Да еще испрашивает в разрешение предписания, как с одной копейкой поступить, потому-де что почтовая контора принимает к пересылке деньги лишь в круглых суммах!
Любезнов был городок небольшой, но настолько опрятный, что только разве в самую глухую осень, да и то не на всех его улицах, можно было увязнуть. В нем был общественный банк, исправная пожарная команда, бульвар на берегу реки Любезновки, небольшой каменный гостиный двор, собор, две мощеные улицы - одним словом, все, что может веселить самое прихотливое начальническое сердце. Но главным украшением города был городской голова. Этот замечательно деятельный человек целых пять трехлетий не сходил с головства и в течение этого времени неуклонно задавал пиры губернским властям, а местным - кидал подачки. С помощью этой внутренней политики он и сам твердо держался на месте, и в то же время содержал любезновское общество в дисциплине, подходящей к ежовым рукавицам. И вот, быть может, благодаря этим последним, в Любезнове процвели разнообразнейшие мастерства, которые сделали имя этого города известным не только в губернии, но и за пределами ее.
Этот блестящий результат был, однако ж, достигнут не без труда. Есть предание, что Любезнов некогда назывался Буяновым и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей. Было будто бы такое время, когда любезновцы проводили время в гульбе и праздности и все деньги, какие попадали им в руки, "крамольным обычаем" пропивали и проедали; когда они не токмо не оказывали начальству должных знаков почитания, но одного из своих градоначальников продали в рабство в соседний город (см. "Северные народоправства", соч. Н. И. Костомарова). Даже и доднесь наиболее распространенные в городе фамильные прозвища свидетельствуют о крамольническом их происхождении. Таковы, например, Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы, Вольницыны, Непроймёновы и т. д. Так что несколько странно видеть какого-нибудь Идолова, которого предок когда-то градоначальника в рабство продал, а ныне потомок постепенными мерами до того доведен, что готов, для увеселения начальства, сам себя в рабство задаром отдать.
К счастию для Буянова, случилось сряду четыре удачных и продолжительных головства, которые и положили конец этой неурядице. Первый из этих удачных градских голов дал городу раны, второй - скорпионы, третий - согнул в бараний рог, а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами. И, независимо от этого, все четверо прибегали и к мерам кротости, неослабно внушая приведенным в изумление гражданам, что человек рожден для трех целей: во-первых, дабы пребывать в непрерывном труде; во-вторых, дабы снимать перед начальством шапку, и в-третьих, - лить слезы. Повторяю: результат оказался блестящий. Изуверовы, вместо того, чтобы заниматься "противодействиями", занялись изобретением perpetuum mobile [вечного двигателя (лат.)], и в ожидании, покуда это дело выгорит, работали самокаты и делали какие-то особенные игрушки, которые "чуть не говорят"; Идоловы, прекратив "филантропии", избрали специальностью сборку деревянных часов, которые в сутки показывали двое суток, но и за всем тем, как образчик русской смекалки, могли служить поводом для размышлений о величии России; Строптивцевы, бросив "революции", изобрели такие шкатулки, до которых нельзя было дотронуться, чтобы по всему дому не пошел гвалт и звон; а один из Непроймёновых, занявшийся торговлей муравьиными яйцами (для кормления соловьев), до того осмелился, что написал даже диссертацию "О сравнительной плотности муравьиных яиц" и, отослав оную в надлежащее ученое общество (вместе с удостоверением, что недоимок за ним не состоит), получил за сие диплом на звание члена-соревнователя.
И вот, когда город совсем очистился от крамолы и все старые недоимки уплатил, когда самый последний из мещан настолько углубился в свою специальность, что буйствовать стало уж некогда, а впору было платить дани и шапки снимать, - случилось нечто торжественное и чудное! Обыватели, созванные на вече (это было последнее вече, после которого вечевой колокол был потоплен в реке) городским головой Вольницыным, принесли публичное покаяние, а затем, в порыве чувств, единогласно постановили: просить вышнее начальство, дабы имя Буянова из географии Арсеньева исключить, а город ихний возродить к новой жизни под именем Любезнова...
Нужно ли прибавлять, что ходатайство сие было уважено?
Повторяю: в 184* году Любезнов ни о каких "народоправствах" уже не думал, а просто принадлежал к числу городов, осужденных радовать губернаторские сердца. А так как времена были тогда патриархальные, то члены губернского синклита частенько-таки туда езжали, во-первых, чтобы порадоваться на трудолюбивых и ласковых мещан, а во-вторых, чтобы попить и поесть у гостеприимного головы. Следуя общему настроению умов, ездил туда и я.
Однажды приезжаю прямо к другу моему, Вальяжному, и уже на лестнице слышу, что в городнической квартире происходит что-то не совсем обычное. Отворяю дверь и вижу картину. Городничий стоит посреди передней, издавая звуки и простирая длани (с рукоприкладством или без оного - заверить не могу), а против него стоит, прижавшись в угол, довольно пожилой мужчина, в синем кафтане тонкого сукна, с виду степенный, но бледный и как бы измученный с лица. Очевидно, это был один из любезновских граждан, который до того уж проштрафился, что даже голова нашел находящиеся в его руках меры кротости недостаточными и препроводил виновного на воздействие предержащей власти.
- Степан Степаныч! голубчик! - воскликнул я, приветствуя дорогого хозяина, - а мы-то в губернии думаем, что в Любезнове даже самое слово "расправа" упразднено!
- Да... вот... - сконфузился было Вальяжный, но тотчас же поправился и, обращаясь к стоявшим тут "десятникам", присовокупил: - Эй! бегите в лавку за Твердолобовым, да судья чтобы... В бостончик? - обратился он ко мне.
- С удовольствием.
- Отлично. Милости просим! А я - вот только кончу!
И покуда я разоблачался (дело было зимой), он продолжал суд.
- Говори! почему ты не хочешь с женой "жить"? Вальяжный остановился на минуту и укоризненно покачал головой. Подсудимый молчал.
- И баба-то какая... Давеча пришла... печь печью! Да с этакой бабой... конца-краю этакой бабе нет! А ты!! Ах ты, ах!
Но подсудимый продолжал молчать.
- Да ты знаешь ли, что даже в книгах сказано: "Муж, иже жены своея..." - хотел было поучить от Писания Вальяжный, но запнулся и опять произнес: - Ах-ах-ах!
Мещанин продолжал переминаться с ноги на ногу, но на лице его постепенно выступало какое-то бесконечно-тоскливое выражение.
- Говори! что ж ты не говоришь?
- Что же я, вашескородие, скажу?
- Будешь ли "жить" с женой как следует... как закон велит? Говори!
Подсудимый несколько секунд помолчал и наконец вдруг заметался.
- Вашескородие! Мне не токма что говорить, а даже думать... увольте меня, вашескородие!
- А коли так - марш в холодную! И завтра чтобы без разговоров! А будешь разговаривать - так вспрысну, что до новых веников не забудешь! Марш!
И, помахав (чтоб крепче было) у подсудимого под носом указательным перстом, Вальяжный приказал его увести и затем, обратившись ко мне, протянул обе руки и воскликнул:
- Ну, вот вы и к нам! очень рад! очень рад! Аннушка! чаю!